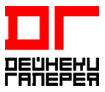М. Е. Денисов, 2004
Как-то в старом питерском трамвае, дребезжащем по мосту лейтенанта Шмидта, разгорелся горячий спор. Спорили студенты V курса отделения истории и теории искусства Академии художеств. Будущие искусствоведы стояли на разных позициях. Спор шел о том, как следует подходить к оценке художественного произведения, что первично в исследовании произведения искусства, что первично в исследовании «первичного предмета исследования» 1 науки об искусстве: формальные признаки, включающие технику и технологию, композиционные приемы по организации плоскости, колорит и цельность; или пресловутый образ, идея мастера, сюжетная линия и пр. Спорили, что важнее: как или что изображено.
Методы решения подобных споров в истории искусства как науке сложились относительно недавно. В начале и середине XIX века были разработаны строгие методы критики памятников и источников, стилистической критики, в конце XIX века — истории стиля, и лишь к 1930-му году методы анализа отдельных произведений, поскольку «не понимая произведений, мы не поймем и того, что собственно изменяется в художественном процессе, т.е. не поймем и самого художественного процесса» 2. Так, наряду с «формальным» или «безобразным» 3 подходом, узаконился и развился ряд других, которые в данном случае могут быть объединены в «образный» подход к исследованию.
Первый и, увы, малочисленный лагерь — это зачастую искусствоведы с профессиональным художественным образованием, которые стараются заниматься «практическим» искусствоведением, ориентируясь на профессионалов, художников. Ведь не редкость, что современный художник может интуитивно построить картину, но не всегда, а на практике почти никогда не может понять, как построены картины старых мастеров. Под «строительством» здесь можно понимать самые разные вещи. Например, построение и развитие стремительного движения именно слева-направо и медленного — справа-налево, учитывая сложившийся взгляд европейца. Постановка вертикальной доминанты, скажем колокольни, справа для остановки движения — прием, часто использовавшийся для создания ощущения камерности, интимности сцены. Заметьте, все это «верхний слой понятий, относящийся к изображению как таковому» 4, формальность — ради образа и все еще в отрыве от сюжета. Красный фонарь у зрительного центра картины для привлечения внимания и розовая драпировка как поддержка где-нибудь у края картинной плоскости. Равновесие желтого пятна песчаной отмели и куска голубого неба как противоположных на цветовом круге секторов, определивших все колористическое решение. Наконец, профессиональное использование материалов: верно выбранный грунт, правильный замес, эффектное свечение подмалевка -все это строительство. Скука, скажет зритель. Кухня, штудия, копание в формальных вещах. Техника.
Второй лагерь куда многочисленней. Копание в образах куда привлекательнее. До начала XVIII века в литературе по искусству еще доминировало рационалистическое начало, и было важно не то как мы воспринимаем, а то какими рациональными принципами пользуемся. Но со времени «Критического размышления о поэзии и живописи» (1719) аббата Ж-Б. Дюбо искусство перестает быть системой балансов; это не рационализм, но вкус. А природа вкуса эмоциональная, а не интеллектуальная. Чувства — не разум. Эти существенные изменения в критике, связанные с признанием лирического начала совпали и с падением канонов в искусстве. Теперь индивид воспринимает свой вкус, как социальное явление интересное для других и для себя, в первую очередь. Далее вся история художественной критики, за редким исключением, представляет собой историю споров интерпретаторов. Один критик считает, что «Олимпия» Э Мане — это пустоголовая одалиска, а изображенные в «Завтраке на траве» обнаженные женщины среди одетых мужчин- непристойны и «оскорбляют нравственность» 5. «Какая-то голая уличная девка бесстыдно расположилась между двумя франтами в галстуках и городских костюмах. У них вид школьников на каникулах, подражающих кутежам взрослых, и я тщетно пытаюсь понять, в чем же смысл этой непристойной загадки» 6, — написал Луи Этьен в брошюре «Жюри и экспоненты. Салон отверженных». Но другой критик возносит это, как пример яркого протеста против дряхлеющей Академии и провозглашает Мане предвестником нового взгляда на живопись. Такой «литературный» метод исследования сугубо индивидуален. Эти споры, даже понятные публике, на наш взгляд, имеют мало общего с профессиональным или, если хотите, с сухим формальным искусствоведением.
Справедливо отмечая множество подходов к исследованию художественных произведений, Э. Панофский, в качестве своеобразного камертона, предлагает фигуру «наивного» зрителя, который, находясь в стороне, одним своим существом обнаруживает между всеми спорящими больше сходства чем различия. Так, например, пишет он: «отношения между историком и теоретиком искусства можно уподобить отношениям между двумя соседями, которые имеют право охотиться на одной территории, но в распоряжении у одного из них только ружье, а у другого патроны. И неплохо бы обеим сторонам прислушаться к доброму совету и установить отношения партнерства» 7. К сожалению, при всей простоте, такой алгоритм решения споров не универсален.
Он же пишет: «Каждый, кто сталкивается с произведениями искусства, эстетически воссоздавая или [как в нашем случае] рационально исследуя его, испытывает воздействие трех составляющих: материализованной формы, идеи (в пластических искусствах это сюжет) и содержания. Псевдо-импрессионистическая теория, в соответствии с которой «форма и цвет говорят нам лишь о «форме и цвете», попросту неверна. Лишь единство всех трех вышеуказанных эпементов составляет эстетическое переживание, и каждый из них способствует тому, что называется эстетическим наслаждением, получаемым от искусства» 8/. Итак, (в пределах нашего спора) материализованная форма в виде условного произведения искусства в качестве объекта исследования присутствует априори; идея — мысль автора как составляющее содержания, т.е. воплощенная идея, — ни что иное, как образ, воплощенный при помощи формальных признаков.
Однако, мы не можем здесь опуститься до примитивного расчленения спора на разговор о форме и содержании. Поскольку, такие формальные аспекты, как техника или композиция, скажем, в литографическом листе О. Домье «Законодательное чрево»; относясь к материально-конструктивным категориям формы, одновременно являют собой ту структуру, на которой, в данном конкретном произведении искусства, зиждется идея как категория содержания. И наоборот, некоторые элементы художественного образа, ИЛИ весь образ, или даже абсолютно любой образ, рожденный, скажем, «Фонтаном» М. Дюшана (а, уж поверьте, искусствоведы второго лагеря не страдают отсутствием фантазии и образ будет рожден и переработан); такой образ, относящийся к теме и идее как категориям содержания, за неимением ничего другого, являют собой материально-конструктивную и смыслово-несущую категорию формы.
К тому же, испытывать воздействие и попытаться определить приоритеты — вещи совершенно различные, и, скорее, определяют границы опора, его объекты, но к решению не приближают. Что же касается псевдо-импрессионистической теории, — первый лагерь заявит, что эстетическое удовольствие можно получить от созерцания фантастических смешений краски, от энергичной фактуры, от «формы и цвета» в чисто формальном виде, второй — будет уверять, что сами «форма и цвет» имеют значение лишь как прародители образа, который прежде всего и связан с эстетическим восприятием. Вдали от обоих лагерей «… «наивный» зритель не только наслаждается произведением искусства, но и бессознательно оценивает и интерпретирует его; и никто не вправе осуждать его, даже если он делает это, не заботясь о том, верна или неверна его оценка или интерпретация, и не отдавая себе отчета в том, что его культурный багаж может влиять на восприятие объекта, который он созерцает» 9 — но все же это своего рода? «возведение рациональной надстройки на иррациональном основании» 10.
Так и «формальный подход» относительно рационален, поскольку оперирует устойчивыми формулами, которые хотя и могут усложняться и множиться до бесконечности, имеют некую одинаковую первооснову. Иррациональность «образного» подхода определена неустойчивостью образа. Такая, неустойчивость проистекает не только из внутренней многозначности, и недосказанности последнего, но также из множества различных внешних факторов и связана с изменением возрастных, социальных предпочтений, уровня культуры общества, мироощущения эпохи.
Примером «формального» метода анализа художественного произведения может считаться Генрих Вёльфлин, который попытался рассмотреть историю искусства как эволюцию формальных моментов, почти полностью отрекшись от исследования сюжетов, рожденных художественных образов, зрительских интерпретаций, проводя при атом сухой научный подход, используя в качестве методов исследования абстрагирование и сравнение. Мы предлагаем вам небольшие фрагменты его текста для иллюстрации, «… мы можем сопоставить друг с другом несколько образцов линейной и живописной живописи. Написанная красками голова Дюрера 1521 г. 11 построена по совершенно такому же плану как и голова Альдегрефера 12 <...> Очень ярко выраженный силуэт книзу от лба, уверенная спокойная линия разреза губ, ноздри, глаза — все одинаково определенно, вплоть до последнего уголка. Но если здесь границы форм проведены в соответствии со свидетельством осязательных ощущений, то и поверхности моделированы применительно к восприятию при помощи органов осязания — гладко и твердо, причем тени поняты как наложенные непосредственно на форму темноты. Вещь и явление совершенно совпадают. Рассмотрение вблизи дает ту же самую картину, что и рассмотрение издали. <...> В противоположность этому у Франца Гальса 13 форма принципиально отрешена от осязательности. Ее так же трудно схватить как колеблемый ветром кустарник или волны реки. Образ, получаемый при рассматривании вблизи, и образ, получаемый при рассматривании издали, не совпадают друг с другом… Грубо отделанные разобщенные поверхности <...> обращаются только к глазу и не хотят, чтобы их ощущали как осязательные поверхности» 14. Обратите внимание, что при всей сухости материала Г.Вельфлину удается даже прибегнуть к поэтическим сравнениям. В нашем отрывке прозвучало и слово «образ», но его автор использовал не иначе как в значении «информация», речь шла об «осязательном» и «зрительном образе» 15. И, конечно, само изображение не имело для нас здесь никакого значения, мы говорили о том как, но не о том что.
«Мы совершенно убеждены, что красота форм, выражение чувств, искусство композиции, даже способность придать произведению искусства впечатление величия для зрителей — в настоящее время находятся в высокой мере под властью правил» 16, — говорил Д. Рейнольде, и на наш взгляд изучение, понимание и сравнение этих «формальных» Правил и составляет суть, а зачастую — задачу и цель исследования художественного произведения.
Не могу удержаться и от крайнего примера другого лагеря -хрестоматийного стихотворения Н. Заболоцкого о портрете А.П. Струйской кисти Ф.С. Рокотова: Ее глаза — как два тумана, // Полуулыбка, полуплач, // Ее глаза — как два обмана, // Покрытых мглою неудач. // Соединенье двух загадок, // Полувосторг, полуиспуг, // Безумной нежности припадок. // Предвосхищенье смертных мук 17.
Яркий пример рождения образа на образ и попытка с помощью текста донести до зрителя-читателя образ, рожденный картиной. Всякий разговор об образе % чистая литература об изобразительном искусстве, поскольку образ с помощью текста донести проще, чем с помощью изображения. Интересно, как сами художники относятся к такого рода попыткам понять и репродуцировать художественный образ? На своем лондонском докладе 20 февраля 1885 года художник Ф. Ходлер вспоминал: «Некоторое время тому назад сделался посредником в делах искусства писатель, хотя он и стоит абсолютно далеко от предмета. <...> В его высказываниях он непременно положит ударение на сюжет и возбудит себя до степени большего или меньшего воодушевления согласно своему красноречию или другим своим духовным качествам, тогда как он с презрением смотрит на ту часть художественного произведения, которую он называет только исполнением, считая ее результатом выучки <...> И вместе с тем поэзия художника остается для него совершенно скрытой, поэзия удивительной изобразительности, сливающей форму и краску в такую законченную гармонию, что красо та рождается из нее, он совершенно не понимает...» 18, — в данном случае, предпочтение «формального» метода «литературному» весьма ощутимо.
Обратный пример — Д. Шмаринов воспроизводя образ, навеянный Ф. Достоевским, рисовал шнурок звонка у старой двери с оборванным дерматином в одном из старинных питерских домов. Работа его увлекла, образ старухи-процентщицы и безумного Расколь-никова с топором уже витал над ним. Неудивительно, что когда он услышал шум в подъезде, он стремглав бросился бежать. Однако, чеповек, не знакомый с творчеством Ф.М. Достоевского, вряд ли броситься бежать, взглянув на прекрасно исполненную иллюстрацию Шмаринова, в чем художника обвинить ни в коем случае нельзя. Просто литература всегда имела больше средств для создания образа. Искусство занималось изначально другим.
В свете нашего спора интересна фигура Д. Дидро, которого некоторые искусствоведы обоих лагерей считают первым профессиональным критиком. Метод Дидро скрыт прежде всего в построении его текстов, в манере изложения. Это диалог с некоей отрезанной половиной, речь с собеседником, которого формально нет. Его дружеская беседа не так претендует на окончательную и безапелляционную оценку, к тому же позволяет тут же дополнять, менять акценты и т.п., когда речь идет о противоречивых картинах. Готовность отступить от своей оценки — способ, с помощью которого он заставпяет спорить с собой художника и не быть битым, что не так просто, если прибегать к беспощадным, а порой просто едким и злым оценкам. «Поистине, в этой картине нет ничего замечательного, кроме подписи. Художник безбожно поскупился на фигуры, а те, что он все же изобразил, нарисованы скверно. Вдобавок они словно облысели, что совсем уж нелепо в данном случае; все на редкость безлики да к тому же написаны в блеклых тонах, напоминающих омлет» 19. «… Борей и Оринтия (Шарля Монне) – Две пережаренные корки, худшее, что можно вообразить, а ведь эта картина предназначена для королевских десюдепортов» 20. «… Введение во храм и Баговещение (Антуана Рену) — плоды дурного сна после слишком плотного ужина. Ангел Рену прям, как кол, и невообразимо долговяз — его оцепенением стоит полюбоваться» 21. Дидро — мастер болтовни. Увлечь зрителя, прикинуться таким же как они — принцип, с помощью которого множество неграмотных искусствоведов будут пробивать себе дорогу и зарабатывать любовь и уважение масс. Оставшись литератором об искусстве Д. Дидро — лучший пример второго лагеря, но исключительно из-за своего литературного таланта и развитого чувства вкуса, позволяющего ему, впрочем, не без ошибок, хвалить талант и откровенно высмеивать и издеваться над посредственностью.
Сам художник, творец, создатель художественного произведения не имеет никакого отношения ни к одному, ни к другому лагерю. Уверен, что А. Дейнека и не подозревал о том, что одни его солдаты идут так, а другие эдак, и поэтому это движение главное, а это — второстепенное. И П. Синьяк не думал постоянно, что гармония цвета достигается точным равновесием противоположных на цветовом круге цветов, и поэтому рядом с этим фиолетовым мазком надо непременно положить лимонный. Художник чувствует и делает, задача искусствоведов — расшифровать и объяснить удачу, понять секрет, раскрыть творческий метод. И уж точно П. Рубенс, накладывая лессировку краплака поверх изумрудной зеленой не думал, что это то же самое оптическое смешение, которым потом так будут бравировать импрессионисты, делая его технически иначе. Кстати, они о таких формальных вещах тоже не думали.
Но и обратно, ни К. Фридрих, ни К. Писсаро, ни Д. Констебль наверняка и не думали о тех образах, которые рождаются в наших головах при виде их пейзажей. Никому не удастся понять образы, которые рождались в голове автора «Герники» П. Пикассо или С. Дали, создававшего «Сон». Попыток интерпретаций картин Вер-мера множество: от самых бытовых, до космических, но о чем думал сам художник остается за кадром. Интерпретаций может быть бесконечное множество, но это литература о картине — не исследование, не оценка.
Ян Вермеер. «Женщина в голубом, читающая письмо» 1662/1664. Холст, масло. Полотно небольшого размера 46,5 х 39 см… пропорции близки квадрату. Ярко выражены светлые и темные зоны, на их строгом, почти математически продуманном равновесии держится все пространство картины. Светлые зоны определяют и движение нашего взгляда по диагонали, своего рода путь рассмотрения картины; слева-направо как все европейцы, но и немного сверху-вниз по «движению» светлых зон и собственно написанного света, льющегося из предполагаемого окна слава. Интересно, что это движение не бесконечно, спинка стула справа оконтуривает светлую зону и ограничивает развитие подобного движения 22. Темные зоны — стол на переднем плане, накрытый драпировкой и топографическая карта на стене — сообщают противоположную, «предметную» композиционную диагональ. Причем, наибольшую плотность имеют темные зоны нижней части картины, утверждая привычное тяготение к земле в осязательном мире, поскольку и сама картина некая модель этого мира. Большая плотность тона одной области (стол) компенсируется размером покрываемого пространства другой (карта) — при грубом сравнении — качество и количество. «Такое распределение как бы по «весу», с тончайшим ощущением ценности вещей, форм, цветов, размеров, отношений и значений, произведенное согласно трем планам, в соотнесении всех элементов изображения друг с другом — как на весах с тремя чашками, — одно из самых мастерских достижений того чуда, которое совершает картина и которое не способен исчерпать никакой композиционный анализ» 23. Женская фигура несет в себе сочетание светлых и темных зон, являясь, с одной стороны, неким центральным связующим и организующим звеном, с другой — наиболее объемным, а значит визуально иллюзорным, наиболее значимым объектом, особенно на фоне локальных плоскостей окружения: единственный живой актер среди плоских декораций — сознательные жертвы ради главного. Об умышленном уплощении окружения говорят хотя бы скрытые возможности таких объемных предметов как стол или стулья, подвергающиеся в данном случае еще и сильному сокращению. Вполне понятно, что в центральной части картины сосредоточены и наибольшие контрасты и наибольшая замельченность деталей, что особо подчеркивается общим отбором, аскетизмом изображения. Опуская исследование таких формальных аспектов, как линейный ритм вертикалей и горизонталей, статику и динамику контуров, акценты и нюансы, графические и живописные элементы и пр. можно только сказать, что все удивительным образом сочтено, и подобрано. Аналогичным образом достигнуто и равновесие оттенков теплого и холодного, синего и коричневого. На сочетании этих цветов, противоположных на цветовом круге 24 выстроен общий колорит картины. В своем наиболее ярком и чистом виде 25 эти цвета встречаются ближе к зрительному центру, чуть выше арифметического центра картины — своего рода максимальный цветовой контраст. Соединение этих цветов рождает сложные, как принято говорить, оливковые оттенки зеленого, появляющиеся то тут, то там в картине, неся особую объединительную функцию. В отличие от классической голландской школы, Вермеер достигал глубины теней не прибегая к технологическим эффектам просвечивания белого грунта и рыжей прописи 26 из под холодного лессировочного слоя; не пользуясь черным он смешивал, по-видимому, натуральную умбру и ультрамарин, а грунты чаще использовал серые. Такие тени за счет выстраиваемых вокруг светлых зон выглядели очень плотно, а объем достигался с помощью уже рассмотренного уплощения окружения. Теперь стоит поговорить собственно и о самом «вермееровском свете», так поражающем зрителей. Уже упомянутые высокие тоновые контрасты — одно из составляющих этого эффекта, воздух становится почти осязаем из-за своей непрозрачности, а иллюзия непрозрачности достигается Вермеером за счет списывания граней предметов: так в какой-то момент край темной карты почти сливается с белой стеной. Появляется ощущение сбивки резкости, более того, светлые зоны как бы наплывают на темные, а не наоборот. На светлых поверхностях появляются мазки еще более светлого тона — пики фактуры, максимально отразившие свет в отдельной точке, расплывшейся при смещении фокуса. Своего рода умышленное преувеличение иллюзии нашего зрения, когда темный объект на белом фоне выглядит меньше, чем такой же, но светлый, — на темном. То есть на холсте даже не реальность, а то, как эту реальность воспринимает наш глаз, что проецируется хрусталиком на задней стенке глазного яблока. И тут мы вплотную подошли к тому инструменту с помощью которого Вермеер создавал свои полотна — камера-обскура 27 — предвестник современного фотоаппарата. Линза камеры проецирует на матовое стекло круглое или слегка овальное изображение. Отчасти этим объясняется формат многих картин Вермеера, близких к квадрату, как и в нашем случае. Размытость изображения, — возможно намеренное смещение фокуса. Исследователи творчества Вермеера отмечали резкость ракурсов, увеличение перспективных сокращений, что так же косвенно подтверждает использование камеры-обскуры. Но сама по себе — она всего лишь инструмент, который, безусловно, повлиял на видение Вермеером световых эффектов, чисто технически помогал в строительстве сцены изображения, однако без художественной организации, отбора, самой техники письма картины бы не получилось, как это бывает с множеством современных фотографий.
Большинство полотен Вермеер написал в комнатах своего собственного дома в Дельфте, который сохранился до сих пор. Возможно, Вермеер изобразил на картине свою жену Катарину Болнес, которая родила ему четырнадцать детей и потому, зачастую позировала мужу, находясь в положении. Памятуя о назидательном характере многих картин Вермеера интерпретация наставления должна была быть однозначной и легко читаться современниками художника. Все действо закружено вокруг письма, как подчеркивает поза изображенной — этот листок не для посторонних глаз. Край топографической карты 28 говорит о путешествиях или военных действиях 29 Голландия все время с кем-то воевала. Шкатулка и жемчуг на столе может трактоваться как vanitas 30, символ тщетности богатства31, быстротечности бытия или как один из атрибутов украшения Венеры 32 и символ измены 33. И, наконец, одежда — голубой короткий кантуш — подчеркивающий беременность женщины… Кажется, ключи к расшифровке интерпретации собраны, но в трактовке больше вопросов, чем ответов. До анекдотических предположений будто женщина ждет ребенка от своего любовника, чье письмо она с таким трепетом читает, прижимая к груди, пока муж её доблестно сражается на войне вдали от дома опускаться конечно не стоит. Карта может быть просто картой — украшением интерьера голландского дома бюргера, выражающая сложившиеся гуманистические устремления общества, а жемчуг- намек на легендарную Маргариту Антиохийскую 34, покровительницу роженицам. Итак, как мы понимаем, неверная интерпретация всегда возможна, поскольку все это остается в эмпирической области исследования, своего рода «сюжеты и образы», и уже новые исследователи будут находить все новые хоть и косвенные подтверждения своих расшифровок. Можно только догадываться, как такие картины трактовались и насколько они выпадали из общего ряда живописи того времени. Вероятно, они казались более светлыми, но менее цветными, менее прописанными, но более иллюзорными, назидательными, но, возможно, не столь легко и однозначно читаемыми.
Говоря об образах, рождаемых старыми картинами, мы очень уязвимы. Опрокинутый бокал может навести нас на мысли о назидательном отрицании пьянства, неприятном беспорядке, а в представлении людей того времени это скорее знак незримого присутствия человека или уязвимости всего рационального. Изображение черепа в натюрморте у современного человека вряд ли вызовет приятные ассоциации, тогда как для, скажем, XVII века это не более чем символ бренности бытия и повод к размышлению о смысле человеческого существования.
Не стоит и пытаться думать, что мы можем разгадать рожденный в чужой голове образ, его, автора, мысль. Он и она так же индивидуальны, мимолетны и не оформлены, как и наши попытки.
Говорить об образах — это соревноваться в собственном воображении — дело безусловно интересное, но к искусствоведению как к науке не имеющее прямого отношения.
Тем не менее, компромисс в нашем споре может быть найден. Во-первых, о первичности, на что стоит обращать внимание. То есть, сначала — одно, потом — другое. Сначала — формальные признаки, потом — образ. Зедпьмайр писал: «В случае художественного произведения это соответствует, вероятно, тому что Адольф Мейер установил в более общей форме в качестве принципа для других областей исследования, а именно, что всякая научная теория состоит из рациональных и эмпирических элементов, и что невозможно ни рациональные элементы растворить в эмпирических, ни, наоборот, эмпирические — в рациональных» 35. Поэтому, в идеальном и неконфликтном искусствоведческом исследовании будет написано и о том и о другом, достигнуто желаемое единство всех возможных составляющих, подобно самому художественному произведению.
Во-вторых о характере исследуемого предмета. Если это, Джексон Поллок, то скорее стоит говорить не столько об образах, сколько о его понимании искусства, о «живописи действия». Но если это Рембрандт, стоит говорить прежде всего о фантастической живописи, о барокко и мифологии. Если Ван Гог — о цвете и душевных болезнях, если Малевич — о формальности супрематических композиций, потому что если не выучить авторские полные поэзии слова о «Черном квадрате» как о «божественном младенце» — почувствовать такой образ проблематично, поскольку невозможно родить никакой образ столь малыми средствами, да и автор, скорее всего и никогда не пытался это сделать. Более ценно, что он «вышел за ноль формы» — как наглядный пример — чем светлее объект, тем яснее объем. Понять это публике, стоящей по часу перед полотном Малевича — невозможно, он хохотал бы, видя их.
И третье, искусствоведу на лекции, при непосредственном общении с неподготовленной публикой проще говорить о простом и понятном, поделиться забавными или даже противоречивыми инвенциями и интерпретациями полотна, тогда как искусствоведческий текст, имеющий другую более профессиональную аудиторию, предполагает и большую сухость исследования.
«Вследствие того, что предметы истории искусства входят в жизнь в процессе воссоздающего эстетического синтеза, для историка искусства представляет огромную трудность охарактеризовать то, что можно было бы назвать стилистической структурой работ, которые он изучает. Поскольку ему приходится описывать эти работы не как физические тела или заменители физических тел, а как объекты внутреннего опыта, было бы бессмысленно, даже если и вообще возможно, выразить формы, цвета или особенности сооружений с помощью геометрических формул, волн или статических уравнений или описать позы человеческих фигур путем анатомического анализа. С другой стороны, поскольку внутренний опыт историка искусства не является свободным и субъективным, а задан I ограничен целенаправленной деятельностью художника, он не может ограничиваться описанием своих впечатлений от произведения искусства, как поэт, описывающий свои впечатления от пейзажа или пения соловья» 36.
Примечания:
1. Зедльмайр Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства — СПб., 2000. — С.77.
2. Указ. изд. — С 91.
3. Разумеется, речь не идет о том, что в данном художественном произведении отсутствует образ, просто для искусствоведа образы остаются за пределами исследования.
4. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. 1 СПб., 1994.1С. 20.
5. Мане Э. Жизнь, письма, воспоминания, критика современников. — М., 1965. — С. 73.
6. Указ. изд. — С. 74.
7. И Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. — СПб., 1999.- С. 31.
8. Указ. изд.- С. 26.
9. Указ изд. — С. 27.
10. Указ. изд. — С. 28.
11. Дюрер, Альбрехт. Портрет Баренда фан Орли. Дрезден. Воспр.: Вельфлин Г. Указ. изд. — С. 51.
12. Альдегрефер. Мужской портрет, Берлин. Воспр.: Вельфлин Г. Указ изд. — С. 44.
13. Хальс, Франс. Мужской портрет, Ленинград. Эрмитаж. Воспр.: Указ. изд. — С. 50.
14. Вельфлин Г. Указ. Изд. — С. 51.
15. Указ изд. — С.59.
16. Мастера искусства об искусстве. Т. II. — M., 1933. — С. 113.
17. Л Заболоцкий Н. Стихотворения. — М., 1957. — С. 94.
18. Мастера искусства об искусстве. Т. III. — M., 1934. — С. 584.
19. Дидро Д. Салоны. Т II. — М., 1989. — С. 305.
20. Указ изд. — С. 305.
21. Там же.
22. Для европейца создается ощущение камерности интимности сцены, которое сразу теряется, стоит зеркально перевернуть изображение. А для, скажем, китайца все это не имеет такого значения, поскольку он привык «читать» изображения скорее по вертикали, чем слева-направо.
23. Зедльмайр Г. Указ. изд. – С. 5-6.
24. Синему противоположен оранжевый, а коричневый — производный последнего.
25. При исследовании колорита приходится учитывать, что, по-видимому, с картиной происходят необратимые химические процессы с участием синего пигмента, отчего последний начинает звучать слишком активно и дисгармонировать с окружающими зонами. Подобное поведение синего пигмента на картинах Вермеера не редкость. Так одежда астронома («Астроном» 1668) непонятного цвета между зеленым и синим, деревья в «виде Дельфта» 1660/1661 и особенно венок натурщицы в «Аллегории живописи» 1673 стали синими, поскольку предположительно выцвел желтый пигмент растительного происхождения, входивший в смеси с синим.
26. Или свечением красного грунта или красно-коричневой имприматуры.
27. Общий принцип камеры-обскуры был известен, начиная с классических времен, но не использовался до XVI столетия, а затем, главным образом, -для изучения топографии местности. Портативная версия была быстро развита, с проецированием изображений на бумагу или пластину из матового стекла, с которой уже изображение могло быть скопировано на другую основу. При этом изображение переворачивалось зеркально и сверху вниз.
28. Часть карты, воспроизведенной Вермеером на картине «Солдат и смеющаяся девушка» 1658. Эта карта была разработана в 1620 Валтасаром Флоризом ван Беркенродом и впоследствии издана Виллемом Янсом. Латинская надпись гласит «NOVAET ACCVRATATOTIVS HOLLANDIAE WESTFRISIAEQ (VE) TOPOGRAPHS» и показывает, что карта эта охватывает Голландию и Западную Исландию (в отличие от современной картографической практики карта находится на оси восток — запад, а не на привычной — север-юг).
29. Обращение Вермеера к таким картам часто трактовалось исследователями как желание сослаться на современные политические ситуации. Аналогично, в своей статье Ш. Толнаи пришел к выводу, что изображенная в картине «Искусство живописи» карта с изображением всех провинций Нидерландов — не что иное, как мечта Вермеера о единстве Нидерландов под эгидой императорской власти и католической церкви. Ю.К. Золотов откровенно признает это «фантастическим выводом», не основанным на каких либо более веских доказательствах. (Золотов Ю.К. Вермеер Делфтский. — М., 1995.- С. 31).
30. Лат. – букв. «пустота».
31. Так по легенде Царица Египта Клеопатра на пиру распустила жемчуг в бокале вина и осушила его, демонстрируя безразличие к богатству.
32. Венера Земная — лат. Venus Vuigarus.
33. Миф об Афродите (Венере) и Арее (Марсе). Гомер. «Одиссея» (8: 266 — 365).
34. Носила жемчужное ожерелье, указывающее на её имя, которое происходит от греческого слова, означающего жемчуг.
35 Зедльмайр Г. Указ. изд. — С. 105.
36. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства.-СПб., 1999.-С. 29.